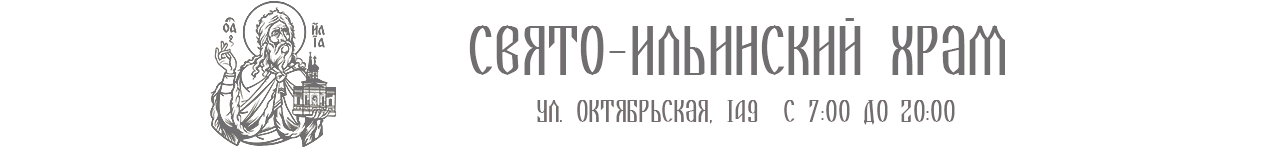Преподобный Максим Грек, подвижник 16 века. Русская Православная Церковь чтит его память 3 февраля. Житие преподобного во многом не вписывается в систему других житийных повестей того времени. В нем нет традиционных сказаний о поражающих своей запредельностью аскетических подвигах. Житие Максима Грека о другом. О непреклонной нравственной борьбе и сугубом подвиге терпения ради исповедания истины. Живи он в наши дни, у него были бы все шансы схлопотать статус иноагента.
Ученый, искатель истины, доминиканец, православный богослов, афонский монах-аскет, духовный писатель, переводчик. Это все о нем. Преподобный Максим, в миру Михаил Триволис, родился в 1470 году в греческом городе Арте в Албании. Он был сыном богатого сановника и получил прекрасное образование. С юности Михаил объездил многие страны, изучал языки и науки, проникся проповедями доминиканского монаха, искал истину, незамутненную ложью потакания человеческим немощам и страстям, истину ради самой любви к ней. Ее он алкал и жаждал, и обрел, вернувшись в Православие. А обретя, не стал раздваиваться, но отдал Богу всего себя – отправился на Афон и принял в Ватопедском монастыре постриг с именем Максим.
Его тихая благочестивая и безмятежная монашеская жизнь длилась в обители Святой Горы десять лет. В эти годы инок Максим с увлечением изучал древние афонские рукописи, которые оставили после себя принявшие иночество греческие императоры Андроник Палеолог и Иоанн Кантакузен. Но по прошествии этих лет в его жизни произошли разительные перемены, навсегда оторвавшие преподобного от родных краев и безмолвного пустынножительства.
В 1515 году к Константинопольскому патриарху обратился великий князь Московский Василий Иоаннович с просьбой прислать ученого грека для перевода на славянский язык греческих церковных рукописей. Выбор пал на преподобного Максима – образованного, энергичного и еще относительно молодого монаха.
В Москве греческого подвижника приняли с честью, поселив в знаменитом Чудовом монастыре. Первым делом монах Максим перевел Толковую Псалтырь. Великий князь Московский Василий III и митрополит Московский Варлаам высоко оценили его работу и остались довольны. Греческий монах попросил благословения вернуться в свою обитель, просьбу отклонили – впереди много трудов. Преподобный Максим перевел несколько толкований: на книгу Деяний Апостолов, на Евангелия от Матфея и Иоанна, и на творения святителя Иоанна Златоуста. Горячий и бескомпромиссный нрав побуждал его писать и собственные сочинения, в которых он обличал магометан, латинян и язычников. Поначалу все шло гладко. Казалось, иноземный переводчик прочно занял нишу князева любимчика и теперь будет почивать на лаврах, но не всегда события складываются так, как прогнозируются…
Именно в Москве начался его крестный путь на личную Голгофу. Из 38 лет, прожитых в России, 27 преподобный Максим провел в заключении. Причина – любовь к Христовой Истине и резкое обличение людской неправды.
Опала началась не внезапно. Ее предпосылки накапливались незаметно, по капелькам собираясь в большую грозовую тучу над головой подвижника. Прежде всего, как писатель, Максим Грек не мог обойти спорные вопросы, которые тогда со всей остротой встали перед Русской Церковью. Речь шла о принципиально противоположном отношении к монастырскому имуществу. Имеют ли нравственное право обители, которые самим своим существованием обязаны отрекшимся от мира насельникам, владеть землями? Противоположные мнения на этот счет высказывали преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Это сегодня они оба в лике святых, а тогда, в средние века, в Церкви противоречия между их взглядами были очень существенными и глубокими.
Воспитанный на Афоне в строгом аскетическом духе преподобный Максим был убежденным последователем «нестяжателей». Монах-грек сопоставил славянский текст Номоканона с греческим оригиналом – в первоначальном варианте славянского Свода правил не оказалось упоминания о «монастырских селах». Оно появилось позже, на каком-то этапе славянской традиции. Мелочь? Для нас сегодняшних, наверное, да. Но нельзя забывать, что тогда это был один из вопросов, позволяющих сохранить неповрежденной саму суть христианского учения, которое в монашестве призвано достигать совершенства. Горячий в вере и по крови грек не мог молчать о таком важном вопросе. Однако, его взгляды не совпали с мнением нового митрополита Даниила.
Затем непокорному монаху поручили перевести на славянский язык церковную историю Феодорита, и снова он своей бескомпромиссностью привлекает к себе опалу. Преподобный Максим решительно отказывается браться за этот труд, объясняя свою позицию тем, что «в сию историю включены письма раскольника Ария, а сие может быть опасно для простоты». В довершение ко всему святой позволил себе обличить неблаговидный поступок великого князя. Всего этого вместе взятого было достаточно, чтобы черная грозовая туча окончательно нависла над головой преподобного. Посыпались обвинения в сообщении с другими иностранцами, живущими в Москве, в подготовке заговора и даже в ереси. Аргументы и возражения к оправданию не принимались.
Признанного виновным будущего святого сослали в монастырскую темницу Иосифо-Волоколамского монастыря, отлучили от церковной службы и причащения, запретили иметь какие-либо контакты и писать книги. Шесть лет в сырой, тесной и смрадной келье, холод, голод, едкий дым, от которого иногда было почти невозможно дышать. В дополнение – непрерывное мрачное одиночество. Вот где пришлось преподобному понести настоящий подвиг. Не вольный, как в отшельничестве на Святой Афонской Горе, но тот, который сам он не выбирал, и, наверное, будь возможность выбора, не выбрал бы никогда.
Это была самая настоящая психологическая пытка, которая для неподготовленного человека вполне могла бы закончиться лишением рассудка. Да и духовному человеку в этих условиях приходилось невероятно тяжело. Утешением могли служить только очень крепкая вера и молитва. Единственным пишущим орудием в темничной келье был уголек. Этим орудием преподобный старец написал на стене канон Святому Духу. Он и ныне читается в Церкви: «Иже манною препитавый Израиля в пустыни древле, и душу мою, Владыко, Духа наполни Всесвятаго, яко да о Нем благоугодно служу Ти выну…» В нем выражена искренняя скорбь и полнота сердечного упования на Единого Бога.
Через 6 лет наказание несколько ослабили – перевели преподобного в Тверской Отроч монастырь, где ему хотя бы была предоставлена возможность читать и писать. Церковное же прещение осталось в прежней силе. Одним из плодов терпения испытаний явилось его автобиографическое произведение «Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении». В нем особенно точно выражен подвиг мысленной брани, которую пришлось преподобному подъять в заточении. «Не тужи, не скорби, ниже тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь без правды, от коих подобало бы тебе приять все благое, ибо ты пользовала их духовно, предложив им трапезу, исполненную Святаго Духа…»
В темничной келье преподобному однажды даже было явление ангела, который утешил Максима, тогда уже человека в преклонных годах: «Терпи, старец! Этими муками избавишься вечных мук».
Только в конце жизни святого перевели на покой в Троице-Сергиев монастырь и сняли с него церковное запрещение. Здесь же преподобный почил.
Преставился преподобный Максим Грек 3 февраля по новому стилю, в день памяти своего Небесного покровителя – преподобного Максима Исповедника. Святой оставил после себя обширное литературное наследие, многочисленные сочинения разнообразного характера: богословские, апологетические, духовно-нравственные. Но не этим он интересен для нас в первую очередь. У преподобного Максима Грека была чрезвычайная духовная близость со своим Небесным покровителем. Прямодушие, смелость, жажда Христовой истины и бескомпромиссное ее отстаивание, некая резкость в суждениях, но всегда искание правды и мужественное терпение – вот что отличало южного церковного публициста, понесшего всю тяготу подвига вдали от родины, в северной стране. Он делом исполнил заповедь Христа о самоотвержении и несении креста ради возможности идти за Ним. И несомненно может молитвенно укрепить тех, кто пока взирает на эту заповедь с некоей опаской.
Мощи Максима Грека сегодня почивают в Трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры. В Свято-Ильинском храме Краснодара есть частица его мощей. Святыня хранится в алтаре, но в дни его памяти ее выносят для поклонения. И тогда алчущие и жаждущие Христовой истины могут припасть к святому с молитвой о помощи в укреплении собственной веры, о даровании терпения и мужества безбоязненно шествовать за Спасителем.