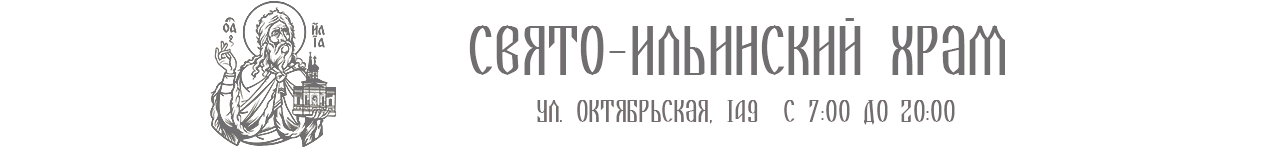В Свято-Ильинском храме есть святыня из далекой Православной Америки.
Это часть богослужебного облачения великого подвижника православного
зарубежья, святителя Иоанна (Максимовича) Шанхайского и Сан-
Францисского. Пояс с Богородичного облачения святителя находится у
кивота с его иконой. Небесно голубого цвета, старенький и потертый этот
пояс никак не похож на часть архиерейского облачения. Но святитель Иоанн
и сам мало походил на привычный классический образ архиерея.
О нем можно писать много, но окажется, что ненаписанного осталось
намного больше. Его называют величайшим святым 20 века, самым
известным русским эмигрантом, чудотворцем и даже юродивым епископом.
Последнее – не оскорбление. Черты нарочитого юродства Христа ради
просматривались в поведении святого нередко. Ходил босой в любой сезон.
А когда сверху поступил приказ носить ботинки, связал их шнурками,
перекинул через плечо и так ходил по улицам города. До тех пор, пока не
пришел новый приказ: «ботинки надеть». Тогда научившийся
неукоснительному послушанию епископ Иоанн стал носить обувь уже не на
плечах, а на ногах.
Современники описывали его как человека невысокого роста, неказистого, с
дефектом речи, часто в мятой рясе. Некоторым было даже неловко за «такого
епископа», ведь служил святитель Иоанн в крупных городах: Шанхае,
Брюсселе, Париже, Сан-Франциско. Зато люди со стороны, увидев владыку,
нередко говорили его духовным чадам: «Ваш духовник – святой человек!»
Святитель Иоанн Шанхайский – «потомственный» святой. Выходец из
старинного малороссийского дворянского рода Максимовичей, он
происходил из семьи, из которой вышел святитель Иоанн Тобольский,
известный тем, что положил начало миссионерской деятельности
Православной Церкви в Китае. Будущий Владыка получил прекрасное
образование – учился в Полтавской военной школе, затем поступил на
юридический факультет Харьковского Императорского университета. После
эмиграции всей семьи в Белград молодой человек окончил Белградский
университет, в котором обучался на богословском факультете.
Решение посвятить всю свою жизнь служению Богу созрело и укрепилось
после окончания учебы. В 30 лет будущий архиерей принимает монашеский
постриг, и с тех пор главным делом всей его жизни, гораздо более значимым,
чем все остальные земные дела и заботы, становится молитва. Она состояла
для него не просто в прочитывании определенного правила, а в самой
возможности общения с Богом и святыми. Точно уловив самую суть
христианства, молодой иеромонах, а затем и епископ, искал в молитве только
одного – исполнения воли Божией. Его собственные желания и интересы
перестали для него существовать с тех пор, как он принял постриг, а
возможно, и значительно раньше. «Хочу того, чего хочет мой Бог», – такова
была жизненная позиция святителя. А чего именно хочет Бог, святитель
Иоанн знал очень хорошо. Современники вспоминали, что их архиерей
настолько четко знал и помнил Священное Писание, будто Евангельские
события происходили в наше время на его глазах.
Полностью подчинив себя Богу, он сверял с Его волей каждое свое действие,
каждое слово и каждую мысль. Эту живую внутреннюю связь с Живым
Богом он старался удерживать непрестанно. Погружался в молитву так,
словно предстоял пред взором Самого Господа и просто беседовал с Ним, с
Богородицей, ангелами и святыми. Один из его духовных детей, иеромонах
Мефодий говорил о святителе: «Все мы становимся на молитву, а владыке на
нее становиться не нужно, он всегда в ней пребывает». Эта связь с Богом и
святыми со временем стала источником чудес, которые начали совершаться
по его молитве.
Для того, чтобы поддерживать такую пламенную молитву, нужно было
постоянное горение духа. А для этого необходимо утеснять плоть, это
духовный закон. И будущий Шанхайский и Сан-Францисский владыка
прибег к аскезе: со времени монашеского пострига строгий пост, каждый
день служение Литургии и причащение. С тех же пор святитель Иоанн
никогда не ложился в кровать, спал сидя и всего несколько часов. Ел, часто
смешивая все блюда: суп, гарнир и даже компот. Ночь отводил для молитвы.
Своей аскетической практики владыка Иоанн не оставил даже приняв
архиерейский сан, хотя внешние условия изменились: никакого уединения,
всегда водоворот людей, их просьбы, скорби, распри. Письма с просьбой
помолиться шли святителю Иоанну со всего мира. И он молился, а люди
получали просимое.
О том, каким крайне милосердным сердцем обладал Сан-Францисский
святитель, нет нужды много писать. На его счету создание приютов для
бездомных детей, посещение больных и много других больших и малых
добрых дел. Порой они казались странными, например, желание отслужить
панихиду непременно на месте гибели человека прямо на проезжей части.
Иногда он словно читал мысли своих духовных чад: вдруг появлялся там, где
был очень нужен, в самый нужный момент.
Кажущаяся странность его поступков и суждений, которых часто не могло
понять и принять его окружение, впоследствии обнаруживала глубокий
духовный смысл. Святитель не искал земного, человеческого, не заискивал
перед людьми. Все его чаяния, вся жажда были об одном – о Едином на
потребу. Как почти всегда бывает в жизни святых людей, и как обещал Сам
Спаситель Своим верным последователям, ему пришлось претерпеть немало
клеветы и напраслины. Он старался все принять по-христиански, с душевным
миром, уподобляясь Христу – не злобясь, а молясь о своих гонителях. Когда
его спрашивали, кто виновен в его бедах, отвечал кратко: «дьявол». Лишь
иногда, видимо, когда было совсем невмоготу, духовные дети слышали
доносившиеся из алтаря звуки рыданий.
Еще в бытность его в Сербии, святитель Николай (Велимирович), сербский
Златоуст, дал этому совсем молодому тогда человеку такую характеристику:
«Если хотите видеть живого святого, идите в Битоль к отцу Иоанну».
Митрополит Антоний (Храповицкий), совершивший монашеский постриг
над будущим святителем, называл его «зерцалом аскетической твердости и
строгости в наше время всеобщего духовного расслабления».
Несмотря на то, что жизненный путь святителя Иоанна проходил вдали от
России, он горячо любил свою родину, скорбел о постигавших ее
нестроениях и бедах, и желал одного – скорейшего ее возвращения к Богу. В
своей проповеди-поучении «Грех цареубийства» он произносит такие слова:
«…Преступление против Царя Николая II еще тем страшнее и греховнее, что
вместе с Ним убита вся Его Семья, ни в чем не повинные дети! Такие
преступления не остаются безнаказанными. Они вопиют к Небу и низводят
Божий гнев на землю. Если подвергся смерти иноплеменник – мнимый
убийца Саула, то за убийство беззащитного Царя-Страдальца и Его семьи
страдает ныне весь русский народ, допустивший страшное злодеяние и
безмолвствовавший, когда Царя подвергли унижению и лишению свободы.
Глубокое осознание греховности содеянного и покаяние перед памятью
Царя-Мученика требуется от нас Божией правдой».
Обращаясь к истории и прозревая будущее, святитель Иоанн говорил, что
тяжкие страдания русского народа есть следствие отступления от Бога,
измены своему пути, своему призванию. Но Отечество сможет восстать,
«когда разгорится вера на русской земле, когда люди духовно переродятся,
когда снова станет им дорога ясная, твердая вера в правду слов Спасителя:
«Ищите прежде Царствия Божия и Правды Его и вся сия приложатся вам».
Восстанет, когда полюбит исповедание Православия, когда увидит и
полюбит православных праведников и исповедников».