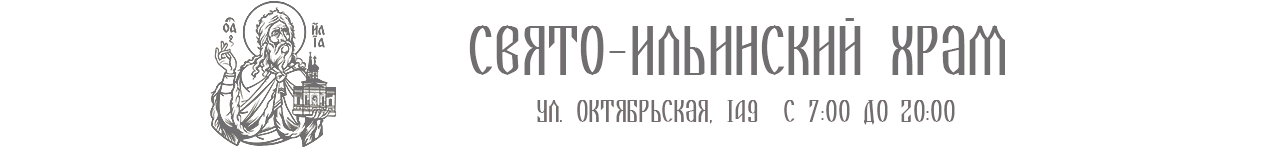Второе воскресенье Великого поста посвящено памяти святителя Григория Паламы – святого 14 века, афонского монаха, подвижника, богослова. Чем так важен для нас духовный опыт святителя? Почему Святая Церковь поставила именно его примером и ориентиром всем, проходящим поприще поста? Только лишь для укрепления в подвиге? И это тоже. Но не только.
Чтобы получить более полные ответы на эти вопросы, нужно, прежде всего, разобраться, в чем суть и смысл того подвига, которым подвизался сам святитель, и который окончательно закрепился в качестве православного церковного учения именно благодаря Григорию Паламе.
Сразу скажем, подвиг его был не нов, Григорий Палама лишь сформулировал и обосновал его основные постулаты. Имя святителя, безусловно, у многих на слуху. Но о том, что он проповедовал, и чему учил, у большинства представления весьма смутные. Чаще всего его имя ассоциируют с чтением Иисусовой молитвы. Кто-то, возможно, еще вспомнит о Нетварном Фаворском Свете.
Можно удивиться, но история празднования памяти святителя в дни, предшествующие крестным страданиям Спасителя, действительно уходит корнями к празднику Преображения Господня. Напомним, что само событие явления апостолам Христовым Его Божественного Нетварного Света на Фаворской горе произошло не жарким августовским днем, а за 40 дней до крестной смерти Иисуса Христа. Отцы Церкви объясняют, что Господь возвел троих Своих учеников на гору и преобразился перед ними для того, чтобы укрепить их веру и утвердить души. Чтобы увидев воочию Его Божественную сущность, они не поколебались духом при виде Его унижений, страданий и позорной смерти на кресте.
Преображение Господне постановили отмечать 19 августа за 40 дней до другого праздника, посвященного Кресту Господню – Крестовоздвижения, иначе приходилось бы совершать торжественное богослужение в конце первой седмицы Поста, что совсем не соответствует ее строгому покаянному духу. Однако значение Нетварного Света для каждого христианина настолько велико, что в дни поста Церковь все же напоминает о нем своим чадам. Это напоминание приходится на второе воскресенье Великого Поста, примерно за 40 дней до Распятия и Воскресения Христова.
Вспоминая о Фаворском Свете, Церковь посвящает этот день памяти Григория Паламы. Почему? Именно святитель Григорий сформулировал и обосновал учение о Присносущном Божественном Свете, о Нетварных, т.е. несотворенных, Божественных энергиях, и, если говорить совсем простым языком, доказал, что через очищение сердца, хранение ума и непрестанную молитву, можно не просто утихомирить страсти, но приблизиться к Богу, соединиться с Ним. Настолько, насколько это возможно для человека, насколько Бог может открыться Своему созданию. И уже здесь на земле увидеть Его Божественный Свет, тот самый, который видели святые апостолы Петр, Иаков и Иоанн.
Для того, чтобы соединиться с Богом, нужно понести определенные аскетические труды: пост, молитву, бдение, поклоны. Не потому что человек спасается трудами. Нет. Но аскетический труд ради Христа привлекает Божественную благодать, те самые Нетварные энергии, которые обновляют человеческий дух. Святитель Григорий указал, что главным деланием в этих трудах, должно стать внутреннее или умное делание, священное безмолвие, исихия. Этот путь он обозначил как приоритетный. Что это такое и какое отношение имеет к нам, христианам, живущим в миру?
Слово «исихазм» может кого-то напугать. Многие полагают, что это дело исключительно монахов, и причем – отшельников. Представления об исихазме бытуют самые дремучие. Так происходит не только сейчас, так было и раньше, даже во времена Григория Паламы, когда эта практика была распространена. В этом вопросе преткнулся и оппонент святителя, ученый монах Варлаам, принявший практику умного делания за суеверие и разразившийся против нее гневными псевдобогословскими обличениями. Именно с ним вступил в спор не менее ученый монах, святитель Григорий. Диспут длился несколько лет, Паламе пришлось многое претерпеть, прежде чем восторжествовала правда, и исихастская практика закрепилась на уровне церковного учения.
Истоки этой практики зародились ранее Нового Завета. В «Беседе на Введение во Святая Святых» святитель Григорий называет истинным исихастом и первым истинным созерцателем не кого иного, как Деву Марию. Прообраз Иисусовой молитвы можно найти в Евангелии. Уже современники земной жизни Спасителя молились Ему Его Именем. Достаточно вспомнить евангельского слепца, сидевшего у дороги и звавшего: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя!». И Сам Господь в Евангелии от Иоанна заповедует просить во Имя Его.
Практикой непрестанной молитвы веками пользовались древние подвижники, монахи-отшельники. Но сам путь был общим для всех христиан, различались только условия жизни и возможности его осуществления. Заповеди даны для всех, не разделяя христиан на тех, кто ушел из мира, и тех, кто остается в миру. В те времена, когда апостол Павел обратил к христианам призыв всегда радоваться, непрестанно молиться и за все благодарить, между ними не было ни одного инока. И сами святые в своих письмах к мирянам утверждали, что для того, чтобы помнить о Боге, необязательно уходить в пустыни. Пустыня дает условия, а цель одна – встреча с Богом.
На самом деле, в исихазме нет ничего страшного или невозможного. Более того, в условиях изматывающей и душу и тело городской суеты с ее стремительными темпами, он может стать даже заманчивой альтернативой. Греческое «исихия» означает тишину и покой. Как аскетический термин исихия подразумевает умственную тишину, состояние, при котором смолкают помыслы, и человек чистым умом обращается к Богу. В русском языке, как мы уже упоминали, этому термину соответствует понятие «священнобезмолвие». Безмолвие ума от страстных помыслов, если точнее – от всех помыслов. Это высокий опыт духовной жизни. Григорий Палама был одним из тех подвижников, которые этот опыт обрели.
Для чего это нужно нам? По церковному учению, первозданный человек в Раю имел непрестанную связь с Богом. Его ум был соединен с сердцем, в котором и происходило непрестанное богообщение. Святитель Григорий пишет, что Адам с момента сотворения «пребывал в общении с Богом через свой светозарный ум», идеально приспособленный к связи «с Богом и ангельским миром… Его ум был просвещен, он был храмом Святого Духа и имел непрестанное памятование о Боге». После же трагических райских событий, повлекших за собой катастрофу вселенского масштаба, о которой не пишут в учебниках, «ум, отступивший от Бога, становится или скотским, или бесовским».
Отсюда и практика начинать возвращение утраченного богообщения с хранения ума и сердца. По евангельскому учению Христа, настоящая война человека со злом ведется не где-либо, а в цитадели зла, в собственном сердце. «От сердца бо исходят помышления злая: убийства, прелюбодеяния, любодеяния, татьбы…», – говорит Господь. И указывает способ борьбы со своим внутренним злом: «…вниди в клеть твою, и затворив двери твоя, помолися Отцу твоему, иже в тайне …».
Под клетью святые отцы единогласно подразумевают сердце человека. То самое, из которого в его наличном состоянии исходят злые помышления, но которое должно очиститься, преобразиться и стать жилищем Бога. Соответственно, и труды в этом направлении должны быть внутренними. Внешний подвиг очищает только «внешнее сткляницы и блюда», а Господь велел: «очисти прежде внутренняя …, да будет и внешнее има чисто». Ясно указан приоритет, поэтому умно-сердечная молитва становится главным оружием христианина в его брани за исполнение высших заповедей: очищения сердца и стяжания любви духовной, обоживающей наше естество.
Но что такое, собственно, сердечная молитва? Эмоциональный крик о помощи в трудную минуту? И это тоже. Но эмоциональный вопль, он на то и эмоциональный. Он может быть лишь сиюминутным, им не очистить сердце, в котором прочно пустили корни бесчисленные сорняки-страсти. Злые помыслы возникают в уме и сердце почти непрестанно. Соответственно непрестанным должен быть и серп, посекающий их – молитва к Богу. Точнее, посекает соединяющаяся с человеческим духом Божья благодать в ответ на человеческое произволение.
Суть внутреннего делания не просто в чтении молитвы Иисусовой. Для того, чтобы она принесла реальный плод, молитва должна совершаться умом в сердце. Это должно работать как единый механизм: ум дает энергию спящему духу человеческому, воскрешает его и возвращает к жизни. Оживший дух получает способность соединяться в молитве с Духом Божьим. Тогда, учил святитель Григорий, человеческому естеству возвращается состояние, утраченное Адамом. Тогда от возможности получить победу в мысленной брани можно выйти на путь к полному очищению от страстей и далее – к духовному совершенству обожения, к опыту чистой молитвы и созерцания Нетварного Фаворского Света.
К этому призывал святитель Григорий Палама в своих беседах «Омилиях»: «Пойдем к сиянию оного света», и «очистим очи от земных скверн». К созерцанию Нетварного Фаворского Света Божества святой призывал не монахов-отшельников, а городскую паству, мирских прихожан, напоминая им, что это «цель нашего существования». Ибо «кто не имеет одежды нетленного соприкосновения со Христом», не сможет войти в брачный чертог.
Закрепив за второй неделей Святой Четыредесятницы почитание святителя Григория Паламы, Церковь тем самым не просто еще раз напоминает своим чадам о необходимости очищения от страстей, но и показывает христианский идеал, к которому следует стремиться, когда в радости соединения со Христом «праведницы просветятся яко солнце в Царствии Отца их».